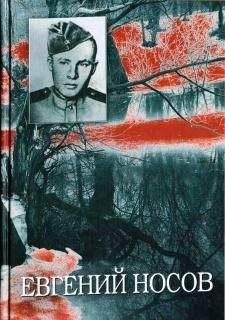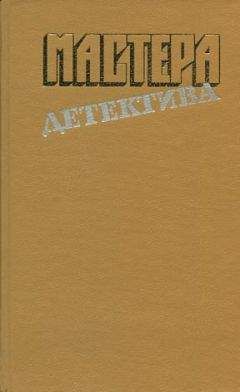Сначала надо было минуть узкий, саженей с десяток, песчаный перешеек; справа полукружьем загибалась сама Остомля, слева подступала долгая травяная заводина. Перешеек упирался в стену краснотала, а уже потом открывались и сами Окунцы — подкова чистых песков, полого уходивших под воду. Получалось что-то вроде всамделишной бани: с входом, зеленым тальниковым предбанником и самой парилкой, где за кустами, в затишье, песок прокалился до печного жара.
Думал Касьян побыть час-другой наедине, в очищающей тиши последнего безлюдья, которого потом уже не будет, но еще издали сквозь лозняки приметил он сложенную одежду, чей-то фанерный баульчик, а выйдя на открытое, увидел и хозяев этой поклажи: Афоню-кузнеца и своего напарника по конюшне Матвея Лобова. Афоня, упершись руками в колени, стоял на мелком, белея крупным незагорелым телом, напрягшимся бугристыми мышцами, тогда как Матюха, орехово пропеченный, ребрастый, с пустым сморщенным животом и намыленной головой, пучком куги размашисто натирал Афонину спину, будто состругивал рубанком. На груди Лобова болтался большой кусок мыла, подвязанный на бечевке. Афоня, выставив разлатую спину, и впрямь походившую на верстак, побагровев, терпеливо сопел и покряхтывал.
— А и копоти на тебе, Афонасей! — наговаривал жилистый и легкий Матюха, обегая Афоню то справа, то слева.— Ей-бо, как на паровозе. Накопил, накопил! Тебя бы впору кирпичом пошоркать. На шее, гляжу, дак и уголь в трешшинах, не выскребается. Под кожей он, что ли? У тебя небось и все внутренности такие копченые.
— Ты бреши помене, а нажимай поболе,— гудел Афоня.— Давай, давай, поусердствуй.
— Да я и так стараюсь, уж куда боле. Опосля бабам трое ден нельзя будет белья полоскать. Пока смагу не пронесет.
Касьян, поставив кошелку в тенек, молча принялся стаскивать рубаху.
— Глянь-кось! — выпрямился Матюха.— И Касьян Тимофеич вот он! Как есть все Усвяты. Здорово, служивый! И ты грехи смывать?
— На мне грехов нету,— сдержанно ответил Касьян. Раздевшись, уже нагой, он свернул цигарку и, обвыкаясь, закурил.
— С чего бы это — нету? Или напоследок не сполуношничал? — засмеялся Матюха. Сметанно-белая голова его странно уменьшилась, будто усохла, и оттого он выглядел состарившимся подростком с сиротски торчавшими ушами. Осклабясь заячьей губой, некогда разбитой лошадью, он с интересом разглядывал Касьяна ниже пояса.— Мужик как мужик. Кисет на месте.
— Давай три, свиристун,— нетерпеливо напомнил Афоня, стоявший по-прежнему согнуто.
— Да погоди. Дай передохнуть. Эка спинища — что десять соток выпахать.
Афоня-кузнец не стал больше ждать, шумно полез на глубину, раскинув руки и вздымая грудью крутую волну.
Касьян тоже не спеша, с цигаркой вошел в воду, забрел до пояса и остановился, докуривая и обвыкая. Вода, парная и ласковая, с тихим плеском обтекала тело, и было видно сквозь ее зеленоватую толщу, как уходил, дымился из-под ног потревоженный песок.
— А меня, братка, тоже забарабали,— все так же весело выкрикнул Матюха.— Во, глянь…
Заткнув пальцами уши, Лобов присел, макнулся с головой, и на том месте, где он ушел под воду, остались, завертелись в воронке мыльные хлопья. А когда вынырнул — оказался наголо обритым и еще больше неузнаваемым.
— Вишь? — выдохнул он, сплевывая воду.— Давеча попросил шуряка: сбрей, говорю, купаться пойду. Чтоб под яичко. Все одно там сымут. А теперь я вовсе готовый: и побрит, и помыт. Миленькое дело — без волос! Одна легкость.
Матюха туда-сюда провел ладонью по синей балбешке, зачем-то подвигал кожей надбровья: должно, хотел показать, как полегчало голове.
— Вошь теперь не цепится,— задрал он в смешке рассеченную губу.— Нет ей теперь державы. Не бросай, дай-кось докурю. А ты пока на мыльца.
— У меня свое в кошелке,— ответил Касьян, не настроенный на легкий разговор.
— Ну, будешь за своим бегать. На, мылься! Теперь вместе идем, твое-мое дома оставляй.— Лобов снял с шеи бечевку и протянул кусок.— Ты где двестительную служил?
— В кавалерии,— сказал Касьян, отдавая чинарик и принимая мыло.
— Нет, я в пехоте! — Матюха сообщил это с оттенком приятного воспоминания в голосе.— Соловей, соловей, пташечка! Это я в нашей роте запевалой был. Выйдем, бывало, возьмем ногу, а ротный: ну-ка, Лобов, давай, три-четыре… Дак я и теперь в пехоту согласен. Миленькое дело: кобылу не чистить, об сене не думать. Лопаткой копнул, залез в норку — и хай палят. А на коне — не-е! Дюже мишень большая.
— Лошадей на кого оставил? — перебил Касьян, тоже намыливая голову.
— Каких лошадей? А-а! Да одного старичка приставили. Деда Симаку. Он еще ничего, колтыхает. А к нему вдобавок Пашку-Гыгу. Гыгочет во весь рот: довольный. Жеребят в морду целует. А так ничего, нормально: сено раздает, навоз подчищает. А кому еще? Больше некому.
Касьян не ответил, сосредоточенно возил по голове мыльным куском, глядя в воду.
— Скоро и лошадей брать начнут, так что… Давай-ка и тебе шоркану спину.
Все еще чему-то противясь, должно быть Матюхиной готовности тараторить по любому поводу, Касьян нехотя пригнулся, расправил плечи, и Лобов, будто себе в удовольствие, принялся громыхать по позвонкам жестким, еще не замыленным, не округлившимся кирпичом серого мыла.
— Я тут уже человек шесть выкупал,— говорил он над ухом, и Касьян уловил шедший от него винный душок.— С самого утра идут мужички. Моются, рубахи новые надевают. Причащаются, можно сказать. Это верно: что в гроб, что на войну — в чистом надо. Не нами такое заведено, потому и нам блюсти. Ты сумку собрал?
— Пока нет…
— А я уже уложился. Я вчерась еще сготовился, как бумажку получил. А чего долго раздумывать — хлебца, сальца да смены пару. Вот тебе и весь сбор. Еще седни стопку выпью — и прощай, Маня. Ты в чем идешь? В сапогах али как?
— Еще не надумал.
— Это б сказать — осень, грязь, а то ж лето. Эвон какая погодка стоит. Миленькое дело — в лаптешках! Мягко, ног не собьешь. Верно я говорю?
— Ну-к ясное дело, не осень…
— Вот и я так думаю. По такой-то жаре. Дак там все одно переобувать будут в казенное, в чем ни явись. Сапоги и пропадут зазря. А то бабе останутся, хай донашивает с пользой. Погоди, ситничка принесу.
Матюха, повесив на шею мыло, голенасто, высоко задирая ноги, запрыгал по мелководью к ситной куртинке. Надергав темно-зеленых стеблей с беловатыми комлями, он заломил их в пучок и, воротясь, пустился обхаживать Касьяна.
— У Кузьмы уже шумят,— докладывал он возбужденно, на всю реку.— Двери-окна нараспах, гармошка грает. Давеча мимо шел — вылетел сам Кузьма в начищенных сапогах, ухватил меня за рукав, не отпущает. Пошли, мол, попрощаемся. Нечего, говорю, прощаться — вместе идем. А ежели вместе, тади, говорит, давай вместе и выпьем.
— Ну чего ж, раз подносят…— сказал Касьян, думая о своем: приедет Никифор, а он еще и в лавку не сходил, угостить будет нечем.
— А я и выпил стакашку. В дом, правда, не пошел, дак Кузьма не отстал, в окно бутылку потребовал. А сам уже языком еле-еле.
— Со вчерашнего, поди, не обсох.
— Кой со вчерашнего! Еще до повестки начал. Я ему: пошли, мол, на реку купаться, ополоснемся напоследок. А он: я нынче в вине купаюсь. Грязь на человеке не снаружи, она в ем внутри сидит. Так что, говорит, пошли ко мне отмываться. Да-а, к вечеру расшумится народ: почитай, в каждой избе стряпали. Завтра тяжело будет вставать.
Лобов запаленно остановился, отшвырнул измятый пучок.
— Ну, все! — объявил он.— Начистил — хоть смотрись. Остальное сам. Давай пока перекурим.
Поплавав на вольной глуби, все трое вышли на берег и, закурив с купанья, улегшись на прокаленный песок, сосредоточенно отогреваясь, поглядывали на реку.
Солнце било в глиняный обрез на той стороне, рябой от нор береговушек. Глина знойно пламенела и, отражаясь в воде, струилась там расплавленной медью. В безветрии разморенно обникли листвой уремные ветлы, и где-то в этой зеленой кипени тоже разморенно и вяло бормотала горлица. Лишь ласточки, выпархивая из нор, оживленно носились парами над речной гладью, то и дело чиркая по поверхности белыми грудками. От их прикосновения река пятналась округлыми ранками, но тут же снова изглаживалась, сама по себе залечивая всякие царапины. И бежала, бежала, завораживая, вода невесть куда, растворив в себе время, не ведая ни о днях, ни о быстротечных минутах…
— Да-а,— протянул Лобов в продолжение какой-то своей невысказанной мысли. Верхняя его губа, стянутая сизым рубцом, полностью не прикрывала рта, и оттого Матюхино лицо, когда он молчал, всегда обретало изумленное выражение, как будто он впервые видел мир божий.— Благодать! Как и нет ничего…
Афоня-кузнец, должно, за все лето не снимавший рубахи, курино-белый, пупырчатый от речной остуды, молча обвел взглядом ту сторону.